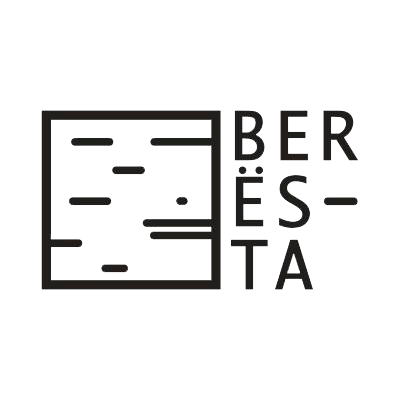Если посмотреть на полку с фарфором, кажется, что это что-то вечное: белый блеск, тонкие линии, привычные формы. Но за этой красотой скрывается целый мир, который сегодня буквально держится на волоске. Достаточно одного неверного решения — и отрасль может треснуть, как чашка в печи, если промахнуться с температурой.
Фарфор в России — это не просто посуда. Это культурный код, технологии, рабочие места, целые города, которые выросли вокруг заводов. Но последние десять лет эта индустрия живёт в состоянии жуткого кризиса, о котором почти никто не говорит.
Мы подготовили подробный материал о том, что происходит с российским фарфором сегодня: от конкуренции с Китаем до роли художников и отсутствия государственной поддержки. Это честный взгляд изнутри производства.
Часть 1. Своё или китайское
В СССР работало более 30 крупных фарфоровых заводов. У каждого был установлен свой норматив брака (чуть больше 30%), и на этих производствах трудились сотни рабочих, модельщиков, литейщиков, фарфористов и художников. Государство вкладывалось в эту сферу художественной промышленности, потому что понимало её роль: большое количество рабочих мест, доступный массовый продукт, постоянный спрос и поддержка культурного кода. Термина «культурный код» тогда не существовало, но задача сохранять наследие и формировать свой русский или советский стиль была вполне конкретной.
С перестройкой, появлением рынка и частной собственности всё изменилось. Керамические производства стали постепенно сокращаться. Эта отрасль никогда не отличалась высокой прибыльностью и зачастую жила на дотации от государства.
Когда в 2017 году мы начали свой проект о фарфоре и бересте, нам пришлось обойти пять керамических производств, чтобы сделать ту форму для формовки, которая нас устроит. И почти сразу мы столкнулись с масштабным завозом в РФ китайского фарфора разного качества, причём с экспортными преференциями, стимулирующими выбирать именно китайский продукт.
Крупные заказы выигрывали не российские заводы, а китайские, потому что в этой сфере работали свои интересы: заграничные турне, выплата бонусов тем, кто принимает решения. После столкновения с этой системой у нас всерьёз возник вопрос: получится ли у нас создать что-то своё?
Со временем мы так или иначе соприкоснулись почти со всеми игроками российского рынка. Кто же они?
Конаковский Фаянс — почти не производит прежний ассортимент, мощностей мало, сбыт ограничен.
Котовская Керамика — сильны в горшках и простых формах, ориентированных на гипермаркеты. С уходом части ритейла в период санкций ситуация возможно изменилась.
Мануфактуры Гарднеръ в Вербилках — весной 2025 года производство остановлено. Временно или навсегда – неизвестно. Учредители устали дотировать проект.
Псковский Гончар, который вырос из Борисовской керамики — работает в своём формате, нашёл нишу, но больших прибылей там нет.
Фарфор Сысерти, борется за свое место под солнцем, находясь в Екатеринбурге, но тоже еле сводя концы с концами.
Башкирский фарфор. Фарфор для HoReCa — много лет работали на немецком оборудовании и сырье. Сейчас всё импортное, условия меняются.
Императорский фарфоровый завод — перенёс почти все формы на китайскую фабрику. В России оставил роспись, деколь и обжиг. Отсюда и разнообразие коллекций.
Фарфоровое Объединение Гжель — чувствует себя увереннее благодаря покупке группой АФК «Система». Есть крупные корпоративные заказы и финансирование. Но даже им сложно обеспечить нужный уровень прибыли.
Наш любимый Дулёвский фарфоровый завод, с которым мы уже 8 лет создаём продукцию, тоже переживает непростые времена. Потребительская способность упала, рынок просел на 30%. Но Дулёво по-прежнему делает фарфор «с нуля» — из закупаемой глины, по собственной рецептуре. Каолин приходится везти издалека, потому что к "украинскому" месторождению в Славянске больше нет доступа.
И ещё один важный пример. Ахмадуллина.Хохлома — раскрученный бренд с сильным дизайном, но своего фарфорового производства нет. Для росписи они закупают тарелки в Дулёво, а уникальные чашки делают на китайском сырье.
В таких условиях на рынке живут многие мануфактуры и керамические мастерские (например, ДЫМОВ КЕРАМИКА). Но только керамика никогда не заменит фарфор: это другой материал, более тяжёлый, менее практичный и не способный обеспечить рабочими местами сотни людей, как фарфоровый завод.
Китайский фарфор производится на мануфактурах — маленьких предприятиях, где ниже затраты и выше гибкость. Там используют сухое прессование (у нас — влажное, более энергоёмкое), а 3D-принтеры для фарфора давно норма. В России в такие технологии не вкладываются: для малого и среднего бизнеса это неподъёмные суммы.
Отсюда вывод. Чтобы сохранить последние российские производства, нужен временный запрет на экспорт китайского фарфора. Это даст рынку время, чтобы реформироваться и модернизироваться. Квоты не спасут ситуацию.
Если мы выбираем российское — нужно быть последовательными и поддерживать тех, кто ещё держит эту отрасль на своих плечах. И ещё одно. В каждой уважающей себя развитой стране должен быть свой фарфор.

Часть 2. Зачем фарфоровым заводам творческие лаборатории — и почему они почти не спасают
Фраза «Я художник – я так вижу» появилась, как говорят, ещё во времена инквизиции, когда мастеру нужно было защищать своё творчество. Сейчас у неё другой оттенок – и очень часто именно так описывают работу всевозможных экспериментальных и творческих лабораторий, которые получают гранты для развития производства от Благотворительного фонда Владимира Потанина или Президентского фонда культурных инициатив.
Почему-то принято считать, что сами керамические и фарфоровые заводы не способны придумать современный декор, обновить линейку и «перезапустить» интерес к продукции. Мол, без внешних творческих лабораторий им никак. Но судьи кто?
Доля правды в этом есть, но совсем небольшая. Потому что любое керамическое производство — это в первую очередь социальное предпринимательство. Заводы существуют на грани рентабельности, едва покрывая производство. А вот творческая лаборатория — структура коммерческая: она забирает продукцию по цене себестоимости, а потом увеличивает стоимость в 3–6–10 раз, включая логистику, торговые наценки, маркетинг.
Представьте такую картину. Завод уже произвёл продукцию. Он выплачивает кредиты, без которых такая огромная машина просто не сможет работать. Но дополнительного дохода, хотя бы удвоенной цены, чтобы вложиться в новые формы или материалы — завод не получает.
Почему так происходит?
• рынок привык к дешёвому «советскому фарфору»
• заказчики не готовы платить больше, им нужно оставлять маржу на продажу
• сырьё, которое раньше закупали на Украине, сильно подорожало
• термостойкие красители в России не производят, почти все — европейские
• отрасли не хватает нормальных дистрибьюторских каналов
• нет маркетинга в фарфоровой отрасли, рынок посуды не изучен совсем
• доходы экспериментальных лабораторий не идут в бюджет предприятия
Что нужно, чтобы производство выжило?
• поднимать стоимость продукции
• вести переговоры с государством о преференциях, субсидиях, госзакупках и инвестициях
• создавать свои экспериментальные лаборатории — не художественные витрины, а рабочие технологические центры
• вкладываться не в воспоминания о промышленной «классике», а в технологии будущего
А может ли помочь крупный бизнес? Может — но только если это не история про «сделаем 3D-принтер за 100 миллионов на НИОКР», а про реальную ответственность и понимание экономики процессов.
Без социальной ответственности фарфоровая отрасль не выживет. И здесь как раз роль государства — помочь найти тех, кто готов брать на себя такую ответственность, а не просто работать ради отчётов. Ведь российский фарфор – это наш культурный код.

Часть 3. Технологии, субсидии и то, почему российский фарфор остался без поддержки
Технологии фарфорового производства устроены так, что сегодня невозможно окупить себестоимость, если делать изделия на литье, как это было в советские годы. Литьё требует больше времени и ресурсов. Значит, нужны формы и модели, которые подходят для формовки: стандарт, который можно ставить в печь большими партиями.
Когда художники приходят на производство, они редко задумываются о рентабельности изделий. Глаз цепляется за необычные линии, потенциал формы, идею будущего дизайна, но не за себестоимость. Хотя креативная экономика это не про «красиво», а про междисциплинарный процесс: рынок, технологии, логистика, сырьё, узкая ниша. И в сфере фарфора эта ниша огромная, но её будто никто не хочет замечать.
Даже в деколи — казалось бы, самом «простом» этапе — скрыто столько нюансов, что художнику нужны не только навыки рисунка, но и понимание химии, физики, математики. Например, золото, при всей своей дороговизне, наносить дешевле: процесс автоматизирован, консистенция подходит. А цветная краска, наоборот, требует ручной работы и даёт больше брака.
Именно поэтому гранты и субсидии в фарфоре нужны не на новые рисунки. Они нужны на технологии. На оптимизацию процессов. На модернизацию оборудования. Именно технология должна диктовать дизайн, а не наоборот.
Но здесь есть проблема. В России нет программ, которые позволяют это делать. Фактически поддержка отечественного фарфора отсутствует.
Какие вообще есть фонды?
• Ну, во-первых, главный инновационный Фонд содействия инновациям — работает в другой тематике. Даже экология как направление там не предусмотрена. И бюджеты для «инноваций» скромные.
• Перечисленные уже выше ПФКИ и Потанинский фонд — ориентированы на музеи и сферу культуры. То есть на тех, кому государство помогает не полностью. И суммы поддержки соответствующие — чтобы «всем понемногу».
• Любимый нами и поддержавший нас Фонд «Наше будущее» социальное предпринимательство, помогает в том числе микробизнесу. Да, благодаря их гранту можно восстановить утраченные кузнецовские формы. Но не создать 3D-принтер для фарфора.
Иными словами, действующих механизмов поддержки полного цикла фарфорового производства в России нет. Есть субсидии по закону «О народных художественных промыслах» от 06.01.1999 N 7-ФЗ, которые компенсируют часть расходов на электричество. Но и они сокращаются — НХП должны становиться самоокупаемыми.
Зачем вообще нужна поддержка частным компаниям? Потому что любой производственный бизнес зависит от оборудования. Если его нет — приходится завозить импортное. А импорт означает сложную логистику, риски, отсутствие гарантий и невозможность ремонтировать технику «по месту». На фоне требований креативной экономики — участвовать в международных проектах, держаться на уровне лучших — это становится настоящим вызовом.
Создание своего оборудования или освоение нового месторождения глины — это миллиарды. Для малого и среднего бизнеса сумма невозможная. Крупный бизнес тоже не спешит вкладываться. Например, лицензия на недропользование стоит таких денег, что даже огромные компании не рискуют, не имея стопроцентных гарантий окупаемости.
И тогда остаётся главный вопрос. Когда государство увидит фарфоровые производства как часть креативной экономики и социальной сферы? Когда заметит, что это не просто посуда, а рабочие места, технологии, культурный код страны? И не пора ли принять меры, пока последний фарфоровый завод не выключил печи?